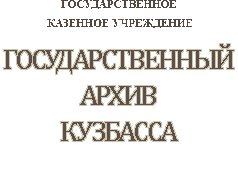
Мы – курсанты спецшколы – только что закончили работу по очистке границ Западной Украины и Западной Белоруссии. Измученные бессонницей и тревогами, столпились на перроне станции Чижово, ожидаем отправки в Москву. Чего бы, казалось, волноваться, почему на душе не спокойно, ведь едем домой, на отдых? Но нет, какая-то ноющая напряженность не покидает…
20 июня 1941 год. Подошел почти пустой поезд, следующий с нашей территории в направлении оккупированной Польши. Несколько минут он стоял на фоне кроваво-красного заката. В единственном раскрытом вагонном окне торчал рыжий человек с узким вытянутым лицом – не то улыбался, глядя на нас, не то зло скалился. А когда поезд тронулся, помахал рукой и послал воздушный поцелуй.
Медленно, будто крадучись, наступала ночь – глухо и немо, без звуков и шорохов. От усталости или от предчувствий мы как-то разрознились: ни смеха, ни шутки. Ходили-бродили, курили, думали всяк о своем. Наконец, погрузились в комфортабельные мягкие вагоны. Стаскиваю словно примерзшие сапоги, которые забыл уж когда снимал. Ноги гудят. Завертываю их в свитер. Завязываю узлом. Пистолет под подушку. Спать, спать, скорее спать…
На всю жизнь заполнился сон: с тогда еще маленьким сыном Игорем бежим на рыбалку по дощатому тротуару – скрипучему, шаткому. Сын сидит на шее, держится за мои волосы, смеется. Но доски вдруг начали трещать, ломаться, проваливаться…
Открываю глаза. Что такое? Наш поезд идет каким-то прыжками, дает тревожные гудки, затем резко останавливается. Рядом рвутся бомбы, дудудукает пулемет. Выбегаю на подножки, прыгаю наземь. Параллельно поезда на бреющим полете проходят самолеты с фашисткой свастикой. С них падают круглые черные шары. Бегу к лесозащитной железнодорожной полосе, падаю под корень сосенки. А в это время в нескольких метрах впереди меня огненно разрывается черный шар, чем-то бьет меня по лбу. Странно бьет – как-то не больно, не чувствительно, но я теряю сознание и, как мне подумалось в тот миг, умираю – спокойно, без страха, погружаюсь в теплую мягкую тишину…
Искоркой вспыхнула короткая мысль: и до чего же легко умирать!..
Но как чуть вернулось сознание – другая мысль, радостная: черт подери, как хорошо жить, как хочется жить!..
Протираю затекшие кровью глаза, и открывается передо мной первозданный мир: макушки сосенок, глубокое, чистое небо и в нем одинокая птица.
Сажусь на ствол срезанного разрывом дерева и от радости, что остался живым, запеваю:
«Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч…»
Пою. А окружившие меня товарищи удивленно озабочены:
- С ума сошел!..
Нет, ничего подобного со мной не случилось. Я не сошел с ума, я народился вновь! Не верю, как и многие другие, что началась Великая Отечественная война. Произошла ошибка…
Молодой организм быстро справился с легкой контузией головы. Работаю, хожу по унылой Москве, жадно слушаю невеселые сводки Информбюро: оставили, отступили…
Мучает совесть: товарищи разъехались, улетели кто куда – во вражеский тыл к партизанам, на подпольную работу в оккупированных районах, а я сижу в министерстве. Успехи фашистов временные, обусловленные внезапным нападением. Вот-вот они побегут, «не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды». Кончится война, и я не смогу сказать: да, я воевал!..
Пишу заявление с просьбой отправить на фронт…
№ 15
ВОЛЖСКАЯ ПЕРЕПРАВА
________________________________________
Сталинград в огне. Тучи дыма и пепла над руинами города. Под обстрелом ждем переправы. В балке, спускающейся к реке, скопилось множество солдат. И вдруг налет на балку: воют-пикируют вражеские самолеты, и от разрывов авиабомб шатается, трескается земля. Куда ни упадет бомба – везде солдаты… Куски человеческих трупов, лохмотья одежды свисают с обгорелых сучков тополей. Пахнет кровью и жареным мясом…
Уж не так далеко от берега до берега, но это смертный рубеж. И перейти его не всем суждено. В щепках разбитого транспорта плывут живые и мертвые, кричат и стонут раненые, и видеть все это выше человеческих сил!..
Потом, уже после окружения и уничтожения фашисткой группировки, я приезжал в Сталинград за чем-то в командировку. Пустынно тихо на улицах. Да и были ли улицы? Все смешано, перемешано. Встречались мальчишки и девчонки – изможденные, с морщинистыми лицами, словно старики.
- Как вы уцелели, как спаслись, ребята?
- А мы пещеры вырыли по берегам балок, в них жили.
- Голодно было?
- Да оно и сейчас не сладко.
- Страшно было?
- Сначала страшно, потом – ничего, привыкли.
-Родители-то остались у кого?
- Редко.
- А я воевала, - сказала девочка лет десяти-одиннадцати, если судить по росту, а не по внешности, глядя на меня суровыми не детскими глазами. – Я палкой била раненого фашиста. Он кричал, а я била его по башке за папку и за мамку…
- А я, - сказал мальчишка в лохмотьях, - на мороженом фрице с горки катался. Сяду верхом и вжжи с горки!..
Невыносимо горько было смотреть на них, опаленных войной и голодом, ожесточенных, окаменевших.
Под вечер на базаре на все деньги, сколько их было у меня, я купил вареных яиц и с ребятишками вместе ел, сидя на бетонном кольце фонтана у железнодорожного вокзала. Фонтан когда-то украшали детские скульптурные фигурки, сейчас они стояли и лежали – безрукие, безголовые, исковерканные, прошитые пулями. Но они бесчувственны, из цемента. А как же вынесли такую тяжесть детские живые сердца?!
- Ребята, много погибло из ваших товарищей? – спросил я.
- Еще сколько! Вот Васек пополз к убитой лошади, чтобы отрезать кусок мяса, а фашистский снайпер тюк его в голову – и не пикнул Васек. Гришка с Манькой из балки вылезли еду промышлять, так обоих зараз накрыло… Много сгинуло: от пуль, от осколков и с голодухи, много…
- И Борька тоже, - сказала девочка.
Мальчик безразлично махнул рукой:
- Борька по дурости… Нашел ручную гранату и стал разряжать… Тольку жалко. Раненую мать на плащ-палатке волок в укрытие, в живот ему угодило, волком выл от боли… Осколок-то – во! С ладонь, ажно кишки вывалились.
Они рассказывали о страшных вещах без содрогания, бесстрастно, холодно. Лица их ничего не выражали. В потухших глазах – ни боли, ни сожаления. Война сковала, притупила их. И как я ни старался развеселить – ни улыбки, ни намека на неё.
Мы сходили в подвал бывшего универмага. Где был пленен фельдмаршал Паулюс. Спустились к Волге, к месту переправы: окопы, траншеи, изрытые снарядами берега, обломки машин, обломки переправочных средств… И гробовая, оглушительная тишина. Только полчища ленивых трупных зеленых мух…
Чтобы избавиться от тяжести воспоминаний, о пережитом на этой переправе, я предложил:
- Ребята, давайте споем что-нибудь, песню веселую!
Они посмотрели на меня с недоумением, и вроде бы с укором: дескать, глупее-то ничего не мог придумать!
- Без песен рот тесен, - сказал старший из них.
- Нет, правда, давайте, ребята!
- А я не умею, - пожала плечами девочка. – Все позабыла…
Да, они все позабыли. В них прочно вселился вой самолетов, разрыв бомб, горькое горе.
Они провожали меня лунной ночью. В сказочном белом свете, в глубоком молчании лежали развалины города, и казалось, он уже никогда не поднимется, не оживет. Не помолодеют эти мальчишки и девчонки, не зашумят листвой скрюченные обожженные тополя…
Но ровно через десять лет я вновь побывал в городе-герое. И он действительно, геройский, молодой. Улицы его заполняли жизнерадостные, веселые люди…
№ 16
КОМАРИК
________________________________________
Сейчас я уже и не помню её настоящего имени. Мы называли её ласково «Комарик» за малый рост, за тихий жужжащий голосок, за вездесущий бесстрашный характер. С медицинской сумкой и автоматом она ходила в бой в передовых частях, как рядовой солдат, и принималась за санитарное дело лишь тогда, когда появлялись раненые.
Находясь в пекле взрывов, свисте пуль, она прошла до Миус-реки без единой царапины и шутила по этому поводу:
- Я, мальчики, за пятнадцать шагов вижу летящую пулю или осколок, увертываюсь. В меня и снайперу не попасть, я маленькая, комарик…
Её любили и пожилые солдаты, и уж особенно молодые. Конечно, и я в том числе…
Но она никого из нас не выделяла. Все у неё были Колечки, Васечки, миленькие, родненькие. А у меня на шее постоянно висел сильный бинокль, и это давало мне преимущество перед остальными – нравилось Комарику в свободное время рассматривать передовую линию вражеской обороны.
Помню летний погожий предзакатный вечер. Я возвращаюсь с передовой, куда ходил по заданию особого отдела 221-й стрелковой дивизии.
На возвышенности, над Дедовой балкой, в одиночестве сидела она, Комарик.
- Эй, старшой, поднимайся ко мне!
Я охотно поднялся.
- Ты знаешь, надеюсь, что завтра идем в наступление?
- Знаю.
- Давай бинокль.
Она с минуту глядела в него, затем передала мне.
- Взгляни. Видишь, в конце балки что-то краснеет, видишь?
- Вижу.
- Это, должно быть, цветы марьины-коренья…
- Похоже…
- Ты завтра, как пойдем в атаку, сорви их мне… Я тебя поцелую за это…
Она заметно смутилась, потупилась. А я воссиял от радости и выпалил вгорячах:
-Зачем откладывать на завтра? Целуй сейчас.
И она сдвинула брови:
- Ну, ты уж!..
Мы молчали. Низкое золотистое солнце освещало холмы и её – маленькую, притихшую, ушедшую в себя.
- Ты о чем?
- О завтрашнем дне… Кто-то получит награду, … кто-то умрет. Жалко ребят.
- А сама не боишься?
- Никогда…
С полуночи началась артподготовка. Через наши головы часто, как снег в пургу, летели снаряды и мины, огненно фыркали гвардейские минометы – знаменитые «катюши». Вокруг гудело, грохотало, содрогалась земля. Комарик радовалась:
- Отличная работа!..
Утром она сказала:
- Прощай пока. Не забудь про цветы!..
И я не забыл. Я сорвал цветы и бегал с ними по траншеям, разыскивая Комарика, пока не наткнулся на солдат, несущих что-то завернутое в плащ-палатку.
- Кто?.. Кого несете?..
-Комарика…
- Ранена?
- Нет, убита…
Я откинул конец палатки и увидел восковое лицо, потухшие синие глаза, сложенные на груди тонкие девичьи руки.
Я положил красные цветы поближе к её остановившемуся сердцу и поцеловал холодную руку.
- Прощай, Комарик…
Кто знает, может быть, те цветы проросли, не увяли, и теперь ни одно поколение их поднимается над одинокой могилой чистой девушки, не успевшей кого-нибудь полюбить в свои восемнадцать лет…
Дата не указана.
ГАКО. Ф. Р-1248. Оп.1. Д.7. Л.1-7. (год не указан).
Подлинник. Машинопись.
№ 17
Где-то в Бонне
Старая фрау
На поминки
Наденет траур
И послышатся ей из далека
«- Блиц-кринг-блиц!»…
- «Где-то мальчик
Фриц?..» -
И слеза набежит на око…
А Фриц – на погосте,
Дожди омывают кости.
Где-то «нах остен»
Фриц получил
сполна:
Его уложил отец-старшина
На вечные времена…
А в Бонне –
опять
«бонбонят»!
Снова:
«Нах остен!» -
Фашист собирается
«в гости!»
- Ну знаете что,
недобитые,
бросьте! ...
ГАКО. Ф. Р-1248. Оп.1. Д.46. Л. 2, 3. (год не указан)
Подлинник. Машинопись.
№ 18
На углу авеню Санта-Моники
От темна до темна напролет
Кто-то русский на русской гармонике
Невеселую песню поет:
«Меж высоких хлебов затерялася…» -
Рот скривило, и губы свело.-
«Горе-горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело…».
Без работы, без дома и Родины,
Как песчинка в кипучей реке…
И слезинка, крупнее смородины,
По небритой стекает щеке.
О пощаде взвывают аккорды,
Но их глушит безжалостно гам.
Проплывают чванливые «форды»
И копейки бросают к ногам.
Что тебя доконало, сердешного?..
Кто в тебе человека убил?..
Ты захожий, ты роду нездешнего,
Ты ведь русское поле любил!..
По военной дороженьке долгой
Забрести, знать сюда довелось…
Отпусти его в город над Волгой,
Золотая тюрьма – Анджелос!
На углу авеню Санта-Моники
От темна до темна напролет
Кто-то русский на русской гармонике
Невеселую песню поет.
Нет конца песни грустной и долгой,
И раздумий, и горестных слез…
Отпусти его в город над Волгой,
Золотая тюрьма – Анджелос!...
ГАКО. Ф. Р-1248. Оп.1. Д.46. Л. 6, 7. (год не указан)
Подлинник. Машинопись.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
При использовании материалов с данного сайта гиперссылка на http://arhiv42.ru/ обязательна
Разработка сайта: ИТ-КварталДизайн: Студия Алексея Лобура